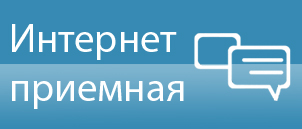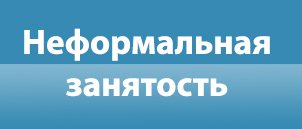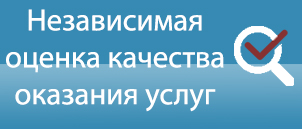Фейзудин Нагиев. Монографоид профессора Гюльмагомедова
Сулейман Стальский воистину поэт всех времен и народов. Об этом говорят его стихи. Но поэт с трагической судьбой, он стал жертвой репрессивной идеологической машины 30-х годов.
 Какие только упреки не сыпались на голову поэту: то его обвиняли в религиозности, аполитичности и антибольшевизме, а то и, прямо наоборот, в атеизме, большевизме и воспевании вождей. Стальского критиковали Вл.Солоухин, Ю.Борев, З.Казбекова, В.Чигирик, которые в общем хоре старались отказать поэту даже в нравственности и добропорядочности, обвиняя его в приспособленчестве и коммунистичности (хотя в ВКГ(б) и не состоял). Теперь в полку хулителей прибыло: появился критик, который ставит под сомнение поэтическое мастерство Сулеймана вообще, объявляя его рифму слабой, предлагая переводить его стихи на современный литературный язык.
Какие только упреки не сыпались на голову поэту: то его обвиняли в религиозности, аполитичности и антибольшевизме, а то и, прямо наоборот, в атеизме, большевизме и воспевании вождей. Стальского критиковали Вл.Солоухин, Ю.Борев, З.Казбекова, В.Чигирик, которые в общем хоре старались отказать поэту даже в нравственности и добропорядочности, обвиняя его в приспособленчестве и коммунистичности (хотя в ВКГ(б) и не состоял). Теперь в полку хулителей прибыло: появился критик, который ставит под сомнение поэтическое мастерство Сулеймана вообще, объявляя его рифму слабой, предлагая переводить его стихи на современный литературный язык.
Рифмоид или рифма?
Не угас еще в народе интерес к творчеству мастеров мудрого и острого слова. И оттого, видимо, каждая книга по исследованию творчества поэтов и писателей научной и читающей общественностью встречается с огромным интересом. Об ответственности исследователя в его научных изысканиях сказано много. Но все еще часты случаи, когда исследователи, рассматривая ту или иную проблему в творческом наследии художника слова, сами становятся источником новых ошибок и искажений. Не всегда содержание научного труда соответствует и своему названию. Именно таким «научным» трудом оказалась и монография с весьма емким названием «Словарь рифм и языковые особенности поэзии Сулеймана Стальского», изданная под грифом солидного научного учреждения.
Название настраивает читателя на получение обстоятельной научной информации о языковых особенностях Сулеймана Стальского и о рифме его стихов (более того — ему предлагается полный словарь рифм!).
Но, увы, профессор периодически наступает на одни и те же грабли: в своих исследованиях творчества и Эмина, и Сулеймана он ориентируется на текстологически невыверенный и творчески неполный материал. Ведь в изданиях Эмина и Сулеймана много чужих сочинений, а более полсотни их произведений еще не издано. Более того, многие тексты произведений Стальского подвержены разного рода искажениям и фальсификациям, о чем мы неоднократно писали (2000, 2001, 2002, 2003 гг.) При таком положении дел всякие исследования их творчества, в том числе и составление словарей хоть прямых, хоть обратных, просто выглядят «мартышкиным трудом».
Вызывает удивление и то, что теория и история вопроса у автора занимает всего четыре странички. В числе исследовавших поэтику Сулеймана Стальского автор называет К. Акимова и Р. Гайдарова. Но вне поля зрения остаются исследования А. Агаева, А. Назаревича, Р. Кельбеханова, Ф. Нагиева, где вопросам языка и поэтики Стальского уделено более широкое внимание. С седьмой страницы начинаются «Выводы из исследования рифмики Сулеймана Стальского», но самого исследования в книжке также нет. Может, под «исследованием» автор имеет в виду сам «Словарь рифм…» (с. 23—79)? Но читателя вряд ли может удовлетворить простое перечисление сложных рифм, почему-то называемых А. Гюльмагомедовым рифмоидами. Насколько правомерно называть изящные, полнозвучные рифмы Стальского рифмоидами, если в теории литературы под этим термином принято понимать неточные рифмы? Раз значение слова «рифмоид» профессор не раскрывает, может, он вкладывает в этот термин иное понятие? Или автор в своем монографиоде рифмы специально именует рифмоидами?
В основном, «Словарь рифм…» больше напоминает сборник рифм, которые автор вырывает из общего контекста стиха, строфы, стихотворения в целом. Вряд ли подобный механистичный метод может иметь что-то общее с наукой, ибо рифма, вырванная из общего контекста строфы, из своего жизненного пространства, мертва. Она лишается своего рифмообразующего окружения, фонического рисунка, ассоциативного и аллитерационного поля. Подобный метод ничего не дает ни науке, ни исследуемому автору, возможно, кроме утешения личных амбиций.
Принцип определения сложности рифмы для исследователя также оказывается сложным: группируя одно-, двух-, трех- и четырехсложные рифмы (а для чего — непонятно), ученый путает друг с другом разносложные рифмы. Приведем несколько примеров путаницы сложности рифмы:
В список «односложных рифмоидов» попали: двусложные рифмы жаваб — китаб, азаб — жаваб — кабаб, ч1улав — Киров и др. (с. 23); трехсложные составные рифмы Абдуллагь — вун гумрагь — сагърай лагь (ученый не учитывает рифмообразующие слова перед основным рифменным словом); четырехсложные составные рифмы ваз йа Араз — акьван дайаз — Сулейманаз (с. 23, 24).
К «двусложным рифмоидам» отнесены: трехсложные составные рифмы ак1 хадай — йахадай — рахадай с общим фоническим рисунком «ахадай», которые также не подходят под понятие «двусложного рифмоида», ассоциирующегося с неточной рифмой (с. 66); киц1елай — йицелай — мецелай из-за замены полного слова йицелай на его усеченный вариант целай (с. 66); хцикай — киц1икай — мецикай, где не учитывается скрытый редуцированный звук [и] в слове хицикай.
К путанице количества слогов в рассмотренных примерах, возможно, приводит пренебрежение таким явлением в лезгинском языке, как появление или возвращение скрытого (неявного) звука (слога) на стыках двух согласных звуков, когда оба звука или один из стыкующихся — глухой, о котором мы неоднократно писали (2000; 2001).
Примеров неверного понимания и искаженного интерпретирования рифмы и ритма Сулеймана Стальского в упомянутом «Словаре рифм…» достаточно много. Следует отметить, что не только игнорирование принципа восстановления редуцированных гласных в словах и неучет рифмообразующих слов в составной рифме, но и пренебрежение принципом «плавающего» ударения в лезгинском языке, приводит профессора к непростительным для исследователя литературы ошибкам.
В рифменном ряде зун ахъайА — кьуна пайА — къемеда йА (заглавными буквами обозначены ударные слоги) исследователь не видит и не слышит сулеймановскую рифмику с весьма благозвучным фоническому рисунком: унаайа — унаайа — емеайа (зунахъайа — кьунапайа — къемедайа). Путая пайА (палка) с пАйа (подели), профессор квалифицирует такие рифмы как слабые: «имеем ли мы рифмы в таких случаях, как ахъАя — пАя — къемЕда я, где ударными в первых двух словах являются —Ая, в третьем — второй слог от начала слова и вспомогательный глагол я — къемЕда я»,— пишет он. ( с. 8).
Вывод ученого парадоксален еще и тем, что Сулейман Стальский в своих сочинениях слабой рифмы не допускал вообще (не говорим здесь о текстах искаженных, фальсифицированных или сочиненных за автора). Нельзя забывать, что сама манера сочинения стихов Стальским вслух, произнеся каждый стих нараспев, его феноменально тонкий слух исключали разнобой в стихах и плохих рифм не допускали.
В лезгинском языке случаи фиксированного (связанного) ударения редки. В устной речи и при чтении стихов ударение с первого слога перескакивает на другой, подстраиваясь под общий ритм речи. Это касается и рифм, отнесенных исследователем к типу «частичной рифмизации», выделяя их «несовпадением ударения или слабой звуковой фонацией рифмующихся слогов», где якобы ударение в словах падает на разные слоги (худА — гъутА — гУда, с. 12). Но с учетом перемещения несвязанного ударения и эта рифма у Сулеймана безукоризненна: худА — гъутА — гудА.
На каком языке сочинял Сулейман?
По утверждению А.Гюльмагомедова стихотворения Сулеймана Стальского сочинены «стальским диалектом» («стальского диалекта» не существует, есть лишь говор. — Ф.Н.). А для понимания современного читателя профессор предлагает перевести поэзию Сулеймана на литературный язык. В неизменном виде или в авторской редакции сочинения Сулеймана, по мнению профессора, следует оставлять лишь в академических изданиях (с.116). Если учесть, что за всю историю дагестанской литературы не было издано ни одного академического издания творческого наследия дагестанских классиков, то последнее допущение профессора дополняет казну благих пожеланий. А ими, как известно, вымощена дорога в…
Ошибаются те исследователи, которые привязывают язык Сулеймана Стальского только лишь к одному конкретному говору, хотя он полностью охватывает стальский говор кюринского (неудачно названный гюнейским) диалекта. Кюринский диалект лексически наиболее богат, наиболее мобилен и гибок, наиболее благозвучен и близок к народному разговорному языку, ибо он исторически впитал в себя лексику из разных диалектов и говоров (именно из-за всеохватности П. К. Услар называл этот диалект языком).
И в языке Сулеймана растворена лексика не только из разных лезгинских говоров, диалектов и наречий, он также обильно разбавлен иноязычными заимствованиями, авторскими неологизмами и афоризмами. Поэтому язык Сулеймана Стальского понятен всем диалектам и говорам лезгинского языка и поэтому является основной базой лексики лезгинского литературного языка.
В реальности между языком Сулеймана Стальского и современным литературным столько же разницы, сколько между языком разговорным и литературным. Другое дело, что сам сегодняшний литературный язык в силу того, что в последние годы через СМИ в него стало проникать большое число диалектизмов и иноязычных заимствований, зачастую замещающих уже имеющиеся в языке основные понятия, отдалился от живого разговорного языка. О правильности нашего предположения свидетельствует и язык Киринского альманаха лезгинской поэзии 18—19 веков. В упомянутом альманахе не только сочинения поэтов из разных уголков Лезгистана — Кюры, Ахцаха, Кубы — имеют один язык, но и произведения представителей народов лезгинской семьи (Рутула, Цахура, Агула и Южного Табасарана) сочинены кюринским диалектом лезгинского языка. Это обстоятельство красноречиво свидетельствует о начале формирования лезгинского литературного языка на основе кюринского диалекта.
Исследователь ошибочно приписывает речи Стальского и стальцев несвойственные их лексике и говору, а лишь ситуативно используемые в стихах (для усиления иронии или для улучшения рифмы) слова «ренг», «Баки», «гьуькуьммет», «аяр» и др. (с. 15; 8). Мы уже сталкивались с тем, что при анализе языка Эмина и Сулеймана в исследованиях А.Гюльмагомедова наблюдаются случаи искаженного толкования значений авторской лексики («Правда о «Действительности Эмина», 2003 г.). Так, эминовское «мегьти загьир» («всевидящий мессия») в словаре Эмина ученым толкуется как «мегьит зегьер» («труп ядовитый») (с. 152).
Говоря о заимствованиях в языке Стальского, А. Гюльмагомедов относит одни и те же слова (ният, гьуьруьят, шариат, вилаят) то к заимствованиям из восточных языков, то к исконно лезгинским словам (с. 13). А зачастую исследователь путает понятия «заимствование», «диалект», «литературное слово». Ученый сетует, что в поэтических сборниках Стальского 1947, 1994 годов в стихотворении «Каждый ханом себя мнит» вместо литературного «инженер» использовано диалектное «инжинар». Но русизм «инженер» и его искаженная форма «инжинар» для лезгинского языка не являются ни литературной, ни диалектной формой.
Язык поэтов-классиков — это кладезь живого народного языка и его необходимо беречь и сохранить. Ведь никому и в голову не придет исправлять старославянизмы в языке Сумарокова, Тредиаковского, Ломоносова, Державина, Пушкина при издании их произведений!
Язык Сулеймана Стальского — океан, впитавший в себя все богатство диалектов и говоров лезгинского языка. Это источник живого лезгинского языка, явление общенационального масштаба.
Сулейман Стальский сочинял на общедоступном для всего лезгинского и лезгиноязычного населения языке, и его сочинения не нуждаются в переводе на «современный литературный» язык, «чтобы правильно понимали читатели», как рекомендует наш прославленный ученый-языковед, профессор, академик А.Гюльмагомедов. Язык Сулеймана сам является базой, живым источником литературного языка на все времена. А исправление лексики Стальского (хазан на хизан, гевил на гуьгьуьл, минкин на мумкин и т.п.), замена лезгинизированных заимствований (сумавар, истик1ан, машин, Гуьрке, Лейна, революци, каституци, балшавик, калхуз, махурка, бап1рус на самовар, стакан, машина, Горький, Ленин, революция, конституция, большевик, колхоз, махорка, папироса) лишат сочинения поэта ритмики, и впрямь превращая полнозвучную рифму Сулеймана в глухой рифмоид, выхолостит сочный и певучий его язык.
В контексте рассматриваемой проблемы уместно вспомнить слова академика Д. Лихачева о высокой ответственности и компетенции текстолога, который «обязан быть и историком, и литературоведом, и языковедом… А вмешательство текстолога чревато тем, что, устраняя одни ошибки, он сам может оказаться причиной других». Известный пушкинист С. Бонди предупреждал, что «игнорирование или недооценка необходимости художественного вкуса, эстетического чутья у литературоведа, у текстолога нередко приводило к тяжелым для науки последствиям».
Трудно представить себе научную и практическую полезность исследований, в которых поэтическое наследие мастеров слова подается в искаженном свете и толкуется превратно. Но вред от таких исследований огромный: ведь слово ученого, имеющего научные степени и тяжелые регалии, неподготовленными людьми могут восприниматься за истину.